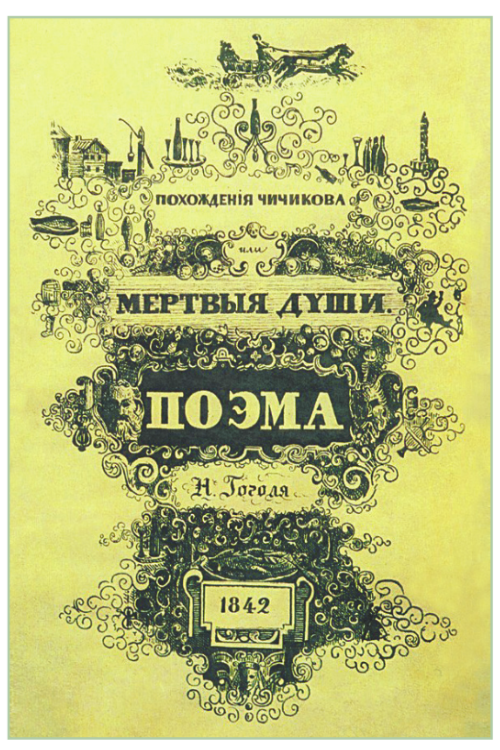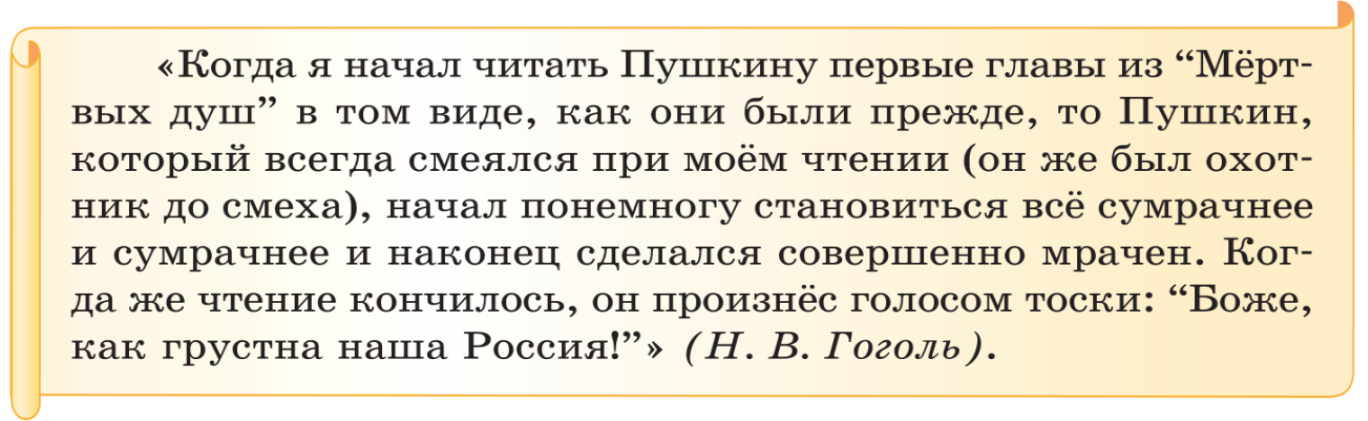один за другим следуют у меня герои
герой один пошлее другого
В образе Манилова запечатлен тип праздного, мечтателя,
“романтического” бездельника.
Хозяйство помещика находится в полном упадке.
Манилов-это помещик-расточитель, бездеятельность
которого ведет к полному разорению.
Ноздрев, полная противоположность Манилову и Коробочке.
Он стремится показаться значительней и богаче,
чем есть на самом деле.
Картежник, пьяница, врун и скандалист-вот краткая
характеристика Ноздрева.
Это человек, как пишет автор, который имел страсть
«нагадить ближнему, причем вовсе без всякой причины».
Собакевич настолько груб, неотесан, что в теле его
«совсем не было души».
В комнатах Собакевича все такое же неуклюжее и
большое, как он сам.
Стол, кресло, стулья и даже дрозд в клетке, казалось,
говорили: «И я тоже Собакевич».
Последним в галерее помещиков стоит Плюшкин.
Гоголь отводит ему это место, поскольку Плюшкин
являет собой результат праздной жизни человека,
живущего за счет чужого труда.
«У этого помещика тысяча с лишком душ», а выглядит
он как последний нищий. А ведь были времена,
когда Плюшкин был бережливым, состоятельным хозяином.
Но ненасытная страсть к наживе, к приобретательству
приводит его к полному краху.
Все помещики, столь ярко и безжалостно показанные
Гоголем – живые люди.
Но можно ли о них так сказать?
Можно ли их души назвать живыми?
Разве их пороки и низменные побуждения не убили
в них все человеческое?
Смена образов от Манилова до Плюшкина раскрывает
все более усиливающееся духовное оскудение,
все возрастающее моральное падение владельцев
крепостных душ.
Один за другим следуют у меня герои
Как образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» помогают понять идею произведения?
Поэма «Мертвые души» по праву считается одним из лучших произведений Н.В. Гоголя. В ней автор раскрывает важные социальные проблемы, обличает человеческие пороки и, тем самым, изображает путь, по которому движется вся Россия.
Галерею помещиков открывает Манилов, которого автор характеризует как «ни то ни се». Образ героя построен по принципу нагнетания положительного качества до избытка, переходящего в отрицательное. Об этом свидетельствует даже его портрет: «Черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару». Манилов ленив, склонен к бессмысленной мечтательности, сентиментальности. Вещи, окружающие его, показывают его неприспособленность к жизни. Так, яркая деталь – книга с закладкой на 14 странице, два года лежащая в кабинете – свидетельствует о малообразованности героя. Особенности характера Манилова порождают опасное социальное явление «маниловщины», которое заключается в бесплодном философствовании и отсутствии хоть какого-нибудь «задора». Образ героя – это первая стадия омертвелости души, изображенная Гоголем.
Далее автор знакомит нас с помещицей Коробочкой. Примечательно, что фамилия героини является «говорящей», поскольку она отражает ее ограниченный внутренний мир. Интересы помещицы сосредоточены на одном хозяйстве. Она очень бережлива, недоверчива и упряма, что мы видим в эпизоде, где Чичиков пытается договориться с ней о покупке душ. Коробочка очень боится «продешевить», поэтому ей в голову приходит мысль, что мертвые ей «может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся. ». Таким образом, мы видим, что героиня также является иллюстрацией общечеловеческого явления «дубинноголовости» и закостенелости души: «Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка».
Продолжает галерею «мертвых душ» Ноздрев – пустой, подлый человек, кутила, склонный к позерству и обману. Герой утрачивает нравстве
Вы видите только 35% текста. Оплатите один раз,
чтобы читать целиком более 6000 сочинений сразу по всем предметам
Доступ будет предоставлен бессрочно, навсегда.
Сочинение: Помещики в «Мертвых душах»: Один пошлее другого (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»)
Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 12.01.2020 · Обновлено 12.01.2020
(453 слова) «Мертвые души» Н. В. Гоголя – уникальное произведение не только XIX века, но и всей русской литературы. Главный герой поэмы – Чичиков – приезжает к помещикам и просит у каждого из них продать мертвые души, то есть уже умерших крестьян, которые все еще числятся живыми. Именно поэтому помещик вынужден платить за него налог. Кто-то из помещиков видит в Чичикове нарушителя закона и афериста, кто-то, наоборот, рад, что избавился от лишних трат.
Последовательность описания помещиков в «Мертвых душах» не случайна: «Каждый последующий мертвее предыдущего» — таким правилом руководствовался Н. В. Гоголь при создании своего произведения. Порядок помещиков таков: Манилов – Коробочка – Ноздрев – Собакевич – Плюшкин, от смешного – к страшному. Автор использует два принципа создания образа: первый – это статичность, то есть у героя нет прошлого, он не изменяется с годами, а значит, у него нет будущего, второй – эволюционирующий образ Чичикова и Плюшкина, потому что у них есть качества, полезные для России. Они по первоначальному замыслу должны быть очиститься от своих пороков и начать продуктивную деятельность во благо общества.
По способу хозяйствования помещики делятся на расточителей, ведущих бесцельное эгоистичное существование, и скупых накопителей. Коробочка и Собакевич заражены торгашеством, все более проникающим в среду дворянства, которое перестает быть носителем духовной культуры и благородства. Обе тенденции объединяются, и обнаруживается единая природа, доведенная до гротеска в фигуре Плюшкина: накопление приводит к гибели материальных благ и к разрушению хозяйства, не случайно Плюшкин назван «прорехой на человечестве». Подчеркивая в героях общее, Н. В. Гоголь указывает на множество оттенков личности, персональных качеств: сентиментальность Манилова внешне сильно контрастирует с неуемной энергией «исторического человека» Ноздрева. Однако деятельность одного и бездеятельность другого одинаково бесцельны.
Последовательную деградацию помещиков можно также рассмотреть на образе окна. Описывая усадьбы, Н. В. Гоголь акцентирует внимание именно на нем. Окно – воплощение связи человека с окружающим миром, открытость к жизни и склонность к переменам. У первого помещика – Манилова – окно расположено стандартно, но уже у Коробочки оно очень близко от земли – знак ее приземленности. Собакевич борется с замыслом архитектора, намеренно заколачивая окна, у Плюшкина – дом без окон, напоминающий склеп.
Кроме того, шаг за шагом Н. В. Гоголь указывает на деградацию дворянской семьи. Из всех помещиков только у Манилова есть семья. Коробочка – вдова и живет в одиночестве, не считая прислуги. У Ноздрева нет жены, а за детьми поглядывает смазливая нянька. Собакевич живет с уродливой и тощей Феодулией, а Плюшкин, потеряв жену, отрекся от детей. Таким образом, полноценная семья есть только у первого помещика, у последнего же нет никаких близких родственников.
Основная идея поэмы Н. В. Гоголя заключается в том, чтобы показать, что те самые мертвые крестьяне, которых приобретает Чичиков, являют собой души живые, яркие, их жизненные истории и прозвища интересны даже после их смерти. Живые же помещики представляют собой мертвые души, потому что их внутренний мир пуст и бездуховен, они блеклые, меркантильные и недалекие люди, не способные на значительные поступки.
Русская литература. 10 класс
Мертвые души
Замысел, история создания, публикация. По свидетельству самого Н. В. Гоголя, идею будущего произведения подсказал писателю А. С. Пушкин, который находил сюжет хорошим уже тем, что он даёт полную свободу изъездить всю страну и вывести множество самых разнообразных характеров. Поэт сам во время кишинёвской ссылки был свидетелем мошеннических сделок с «мёртвыми душами» — купли-продажи крестьян, которые уже умерли, но числились в «ревизских списках».
 В России с начала XVIII века регулярно проводилась перепись крестьян для взимания налога с их владельцев — помещиков. Составленные при ревизии списки назывались ревизскими сказками, а занесённые в них крестьяне — ревизскими душами. Согласно этому списку помещики уплачивали налог в казну за каждого крестьянина — «душу». Государственные ревизии про водились один раз в 12—15 лет, и умершие за это время крестьяне продолжали числиться живыми до новой переписи, что было край не невыгодно для их владельцев. В России с начала XVIII века регулярно проводилась перепись крестьян для взимания налога с их владельцев — помещиков. Составленные при ревизии списки назывались ревизскими сказками, а занесённые в них крестьяне — ревизскими душами. Согласно этому списку помещики уплачивали налог в казну за каждого крестьянина — «душу». Государственные ревизии про водились один раз в 12—15 лет, и умершие за это время крестьяне продолжали числиться живыми до новой переписи, что было край не невыгодно для их владельцев. |